Валентин Катаев: паркур в катакомбах
28 января, 2011
АВТОР: Виктория Шохина
28 (16) января 1897 года родился писатель, который придумал мовизм

-
Как живете, караси?
Ничего себе, мерси.
Валентин Катаев. Из стихов для детей
Великая Октябрьская социалистическая революция (как к ней ни относись) спровоцировала всплеск творческой энергии. И один из интереснейших писателей, революцией мобилизованных, — Валентин Катаев. Особый вопрос — какие трюки ему пришлось изобретать в предложенных обстоятельствах. И чем это на круг обернулось, кроме Сталинской премии (за «Сына полка»), звания Героя Социалистического Труда, дачи в Переделкине и прочих благ.
«Заговорили о Катаеве… — пишет Галина Кузнецова в «Грасском дневнике» (4 сентября 1930 г.). — «А разве он сидел в тюрьме?» — «Думаю, да» (отвечает Бунин). «Он красивый… Помнишь его в Одессе, у нас на даче?» (добавляет жена Бунина, Вера Николаевна). «Да, помню, как он первый раз пришёл. Вошёл ко мне на балкон, представился: «Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь, подражаю вам». И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости. Ну, тетрадка, конечно…» Так великий русский писатель вспоминал в эмиграции о том, как вступал в литературу его ученик, писатель советский.
Кое-что о диалектике
Литературная жизнь Валентина Катаева распадается (быть может, слишком аккуратно) на диалектическую триаду. Тезис. Молодость, Первая мировая, артиллерийская бригада, офицер, ранение, фосген, два Георгиевских креста и орден Святой Анны IV степени. Стихи: «Чем дальше от юга и моря, тем в сердце спокойней и проще, тем в сердце спокойней и проще и сердце полно тишиной. В открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землёй…» (Бальмонт, полученный из рук Багрицкого).
Потом некий провал в биографии. Как выяснилось (сравнительно) недавно, в этом провале — служба у гетмана Скоропадского и в Добровольческой армии Деникина. А также участие в заговоре белых офицеров, Чека, тюрьма (см.: Могултай. Гражданская война Валентина Катаева // Удел Могултая). Потом — служба уже в Красной армии, работа в «Окнах РОСТА», Москва, «Гудок»…
И проза с прибамбасами — экспериментальная («Сэр Генри и чёрт», 1920; «Железное кольцо», 1923). Заканчивается период лихими «Растратчиками» (1926) и весёлой «Квадратурой круга»(1928). Антитезис. Период зрелости отмечен подгоном прозы под линию партии («Время, вперёд!», 1932). В это же время Катаев становится замечательным детским писателем («Белеет парус одинокий», 1936).
В партию, как ни странно, он вступил только в 1958 году — злые языки говорили, что он решился на это, став импотентом и завязав с пьянством, — чтобы не получать выговоров по моральной линии.
Удивительный, всех поразивший последний период, синтез чистой воды. Снятие противоречий, так сказать. Начиная с «Маленькой железной двери в стене» (1964), где в одном измерении — рассказы о Ленине, а в другом — память, время, жизнь после смерти и т.п. И в полную силу — со «Святого колодца» (1965). «Постарел. Остепенился. Пора и о душе подумать, стал мовистом». Мовизм (от фр. mauvais — плохой). «…Так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже… Хуже меня пишет только один человек в мире, это мой друг, великий Анатолий Гладилин, мовист номер один». Мовизм — вызов эстетике соцреализма, которой сам отдал щедрую дань.
Словцо найдено и обкатывается то так, то этак… Проявляется тяга к Достоевскому и к достоевщинке: «Рассуждая о женщинах, старик Карамазов тонко заметил: «Не презирайте момвешек» или «Не пренебрегайте мевешками» — что-то в этом роде, уже не помню…» Он как будто отвечает Юрию Олеше, обронившему: Катаев, «кажется, пишет сейчас лучше всех».

Последняя книга Олеши «Ни дня без строчки» (1956) — это выброс распада перед тем, как окончательно ухнуть в бездну. Катаев, друг его одесской молодости и славных дней «Гудка», принял пас и взрастил на пунктирах Олеши новый стиль, присовокупив к этому опыты своей молодости и уроки эмигранта Набокова.
Сверстники — Катаев, Олеша и Набоков — вообще грибы одной грибницы. (В интересной статье «Зависть» О. и Вл. Новиковы рассказывают, что лингвист Михаил Панов в своих лекциях в МГУ помещал этих писателей вместе в ячейку «проза неожиданной метафоры», — см. «Новый мир», 1997, № 1). И когда Катаев, например, в «Алмазном венце» (1978) говорит о «магическом кристалле памяти», сразу же вспоминаются «Другие берега» (1954) Набокова.
Будучи, как тогда говорили, выездным, Катаев сумел познакомиться с сочинениями Набокова раньше многих. Набоков ошеломил и восхитил его — как если бы он вдруг узнал лет в шестьдесят, что у него в прекрасном далеке живёт брат-близнец. И Катаев контрабандой протаскивает маэстро на свои страницы, за что и подвергается язвительной критике [см. нашумевшую в своё время статью «Верность» Олега Михайлова («Наш современник», 1974, № 1)].
Оба они — Катаев и Набоков — в молодые годы поклонялись Бунину. Набоков встретился с кумиром уже после того, как тот получил Нобелевскую премию, — это описано в «Других берегах». Для Катаева же Бунин стал действительно наставником. Он научил молодого поэта не только стирать носки («Тщательно полощите их в холодной воде, отнюдь без мыла, — а затем не гладьте, а просто сушите на солнце. Тогда у вас никогда не будут потеть ноги»), но и вырабатывать пристальность зрения: «Опишите полувьющийся куст этих красных цветов».
Спустя много лет ученик исполнит урок: «Пожелтевшие зубчики преградили путь осы в тёмно-красную середину агонизирующего цветка, где как бы горел угрюмый огонь войны, грядущей революции, приближение которых было ещё вне моего сознания. Другой цветок был уже мёртв, и по его мёртвой плоти ползали маленькие рыжие муравьи, поднимавшиеся цепочкой по гипсовой балясине балюстрады <...> вечные, бессмысленные, такие хрупкие и недолговечные муравьи, инстинктивно ищущие в громадном непознаваемом мире тело разлагающего цветка. Но как он называется? Теперь-то я знаю. Но тогда не знал». («…Такая масса утомительных подробностей, — пожалуй, сказал бы Бунин. — Прёшь через них и ничего не понимаешь». Он ведь был строгим стариком и пуристом.)
Коперниковская революция
На стадии синтеза Катаев задумал и совершил свою маленькую коперниковскую революцию, решив, что в романе «герой должен быть неподвижен, а обращаться вокруг него должен весь физический мир». Таким образом он пересказал и свою жизнь, и то, что писал сам, и то, что писали и другие, а кроме того — «Ни дня без строчки» Юрия Олеши (есть текстуальные совпадения). Новая проза Катаева стала своего рода художественной и, соответственно, идеологической ревизией того, что он делал прежде. И главным образом — расчётом с тем временем, когда он призывал: «Время, вперёд!» (каким-то трудноуловимым образом это связано со вступлением в партию).
Вообще же в послевоенной советской литературе внимание на время и память первым обратил тот же Олеша, заговорив о «бессмысленном ожидании пропуска в ту страну, которая существует не в пространстве, а во времени, — в прошлое, в молодость». Это можно считать запоздалой реакцией на европейских охотников за временем и главного из них — Пруста (хотя его очень недурно переводили и издавали в СССР в 1930-е годы). А может быть, что-то такое витало в самом «воздухе эпохи»: ведь «Другие берега» в США и «Ни дня без строчки» в СССР писались почти одновременно, в середине 1950-х.
И вот Катаев, как в катакомбах, на ощупь прокладывает «путь сквозь безмолвные области подсознательного в тёмные хранилища омертвевших сновидений, стараясь их оживить» («Трава забвения», 1967).
«Времени как такового, в общем, не существует», — говорит он в «Святом колодце» (1965) и кстати вспоминает Фёдора Михайловича («Время есть отношение бытия к небытию»). Ему доставляет наслаждение ощущать себя затерявшимся во времени: «По отношению к прошлому будущее находится в настоящем. По отношению к будущему настоящее находится в прошлом. Так где же нахожусь я сам? Неужели для меня нет постоянного места в мире? Или «теперь» — это то же самое, что «тогда»?» (Очень похоже на трактат о времени Вана Вина в романе Набокова «Ада, или Страсть».)
Главными героями новых книг Катаева становятся память — особенно на чужие тексты, на стихи — и воображение. Из внешних впечатлений самыми сильными оказываются — сообразно возрасту и статусу в Союзе писателей — больница и заграница. «Ключик (Юрий Олеша. — В.Ш.) никак не мог поверить, что я собственными глазами видел Нотр-Дам. Тут он мне не скрываясь завидовал». Сказано не без иронии, но заграничные поездки были для людей его плана делом чрезвычайно важным («В 1963 году наши пути пересеклись с Катаевым в Париже», — с достоинством вспоминает Евгений Евтушенко в «Литературной газете» от 12.02.97). Большинство писателей отделывались путевыми заметками — Катаев ввёл заграницу в свою прозу на равных с другим материалом. Так, вечность, из которой ведёт свой рассказ повествователь в «Святом колодце», чудесным образом сопрягается с Америкой. «Траве забвения» добавляет прелести французская подсветка. «Алмазному венцу» придан вид лекций перед условными студентами-славистами, итальянцами, а может, французами. (То же самое проделает Василий Аксёнов в сочинении «Круглые сутки non-stop», 1976.)
Отобранный для благополучия
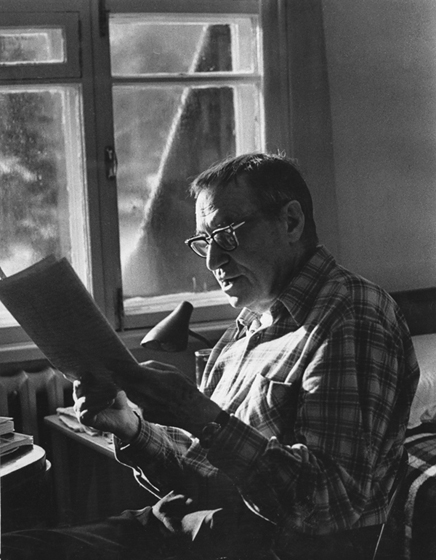
Одно из очевидных достоинств Катаева — бескорыстная любовь ко всему хорошо написанному. Будучи главным редактором «Юности» со дня основания журнала в 1955 году и до 1962 года, он пестовал «молодёжную прозу» во всём её диапазоне — от Анатолия Гладилина до Анатолия Кузнецова. И был снят с должности из-за публикации «Звёздного билета» Аксёнова…
К 20-летию «Юности» Катаев сочинил для родного журнала текстик, в котором настаивал на том, что ушёл он из него «совершенно добровольно и без всякого скандала покинул хлопотливую должность, чтобы уже как частное лицо всецело отдаться радостям тихой семейной жизни и свободному литературному творчеству». Этот элегантный текстик был полон язвительных намёков: что-то про то, как одни «шьются в сферах», а другим достаются галеры. На этот раз были уволены сотрудники, поставившие материал бывшего главного редактора в номер («Юность», 1975, № 6).
Всё, что хотел, да не мог напечатать в «Юности», он вогнал в свою прозу. «О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил!» Так он вводил в обиход Мандельштама, Нарбута, Хлебникова, заставлял вспомнить Маяковского и Есенина.
Выход каждой его новой книги сопровождался шумом: с одной стороны, было интересно и либерально, с другой — недостаточно либерально, по мнению аэропортовского сообщества. К тому же его сопровождала слава циника. «Из семи венков терновых сплёл себе венок алмазный» — такая ходила эпиграмма.
Истории, которые рассказывали про Катаева, колоритны. Вот, например: Эренбург имел дачу в Переделкине — предмет вожделения для совписов. Но он много времени проводил за границей, и в один из его отъездов Катаев совершил самозахват и спокойно поселился на чужой даче. Эренбург, вернувшись, удивился, конечно, но связываться не стал, а просто купил себе другую дачу. «Сегодня встретил Катаева, — записывает Корней Чуковский 28 августа 1962 года. — Излагал мне свою теорию, очень близкую к истине, что в Переделкине и Тихонов, и Федин, и Леонов загубили свои дарования, он привёл в пример Евтушенко. «Я ему сказал: Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу интеллигенцию. На этом пути вы погибнете. Пишите то, чего от вас требует высшее руководство».
Уличать и разоблачать Катаева хотелось многим. У писателей-либералов это вообще считалось хорошим тоном.
В своё время Катаев навязал своему младшему брату Евгению и своему другу Илье Ильфу фабулу романа про авантюриста. Именно поэтому на титульном листе «Двенадцати стульев» стоит: «Посвящается Валентину Петровичу Катаеву». О прототипе Остапа Бендера подробно рассказывается в «Алмазном венце»; там же Катаев пишет: «…я фигурирую [в романе] под именем инженера, который говорит своей супруге: «Мусик, дай мне гусик» — или что-то подобное». Однако Кукрыниксы, иллюстрируя роман, изобразили Бендера так, что в нём легко было узнать молодого Катаева.
«В нём есть настоящий бандитский шик», — говорил о Катаеве Мандельштам, по свидетельству Надежды Мандельштам. «Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22-м году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьёзных неприятностей… Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства. Я долго не понимала, где кончается шутка и где начинается харя. «Они все такие, — сказал О.М., — только этот умён». И ещё известное свидетельство Бунина в «Окаянных днях»: «24 апреля 1919 года… Был В. Катаев. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч рублей убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки».
Всё это Катаев в конце концов получил…
Но всё-таки Мандельштам хорошо относился к Катаеву. «Из тех, кто был отобран для благополучия, быть может, один Катаев не утратил любви к стихам и чувства литературы. Вот почему О.М. ездил с ним по Москве и пил испанское вино в июне 1937 года» (Надежда Мандельштам). Стоит добавить также, что именно Катаев помогал Мандельштамам после воронежской ссылки деньгами. Именно он поддерживал Михаила Булгакова, вступался за арестованного Валентина Стенича…
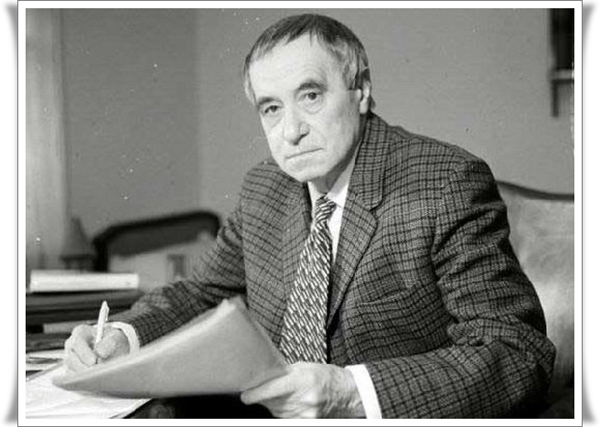
Жизнь после смерти
Когда Валентин Катаев умер (12.04.1986), его гроб, согласно строгой союзписательской иерархии, был выставлен в Большом зале ЦДЛ (писателям меньшего калибра полагался Малый зал). Однако народу пришло совсем мало — либералы, кроме прочих претензий, обиделись за расстрельщика-чекиста, еврея Наума Бесстрашного из романа «Уже написан Вертер» (1980). Патриоты же Катаева никогда не жаловали — он был явным западником и вполне мог сойти за еврея. Так и ушёл в другой мир непонятым этот обитатель советских катакомб. Идеологический и эстетический паркур в катакомбах давался ему нелегко, но, кажется, доставлял удовольствие.
Тот текстик к 20-летию журнала «Юность» он начал так: «Будущие мои биографы… Впрочем, если таковые окажутся, в чём я сильно сомневаюсь…» Он ошибался: есть у него и биографы, и поклонники, и в каком-то смысле продолжатели. Так, настойчивая тема сна у Виктора Пелевина напоминает о столь же настойчивой теме сна у Катаева. А вот что говорит Сергей Шаргунов: «За мастерский мовизм спасибо Катаеву! Написанное — главное. Но личность, судьба — это то, что создаёт подстрочный таинственный гул или, если угодно, зажигает яркую иллюминацию над строчками. <…> Двигатель личности, секрет её развития — парадокс. У писателя бывают опыты горькие, мученические, а рядом — сладкие, барские опыты: опыт ледяного хохота, отчаянного спокойствия, ядовитого лоска, во всём последнем и упрекают глупые люди Катаева или Алексея Н. Толстого».
…А цветок, название которого он когда-то не знал, назывался «Бигнония. Ода Революции. Четырежды благословенная» (сообщает Катаев в конце «Травы забвения»). Другим своим учителем он считал Маяковского. И навсегда запомнил его «самую страшную, беспощадную, кровавую строчку во всей мировой революционной поэзии — «Стар — убивать. На пепельницы — черепа!».


Многие летописцы творчества Катаева избегают одно факта: От Натали Сарроти и ее романа «Золотые плоды» — пошло течение так называемого камерного «Нового романа» — приемы которой были украдены Катаевым и выданы им как новое течение в литературе, т.е. мовизская (грубая)литература. При пристальном всматривании видно, что катаевская камерность — это последние его романы: «Трава забвения», «Алмазный мой венец» и другие, продолжение Саррот. Валентин Катаев, как и Остап Бендер, был авантюристом в литературе. Он воровал литературные приемы, а порой и «сюжетики» у других писателей. Этому учил и молодых начинающих авторов, которые приходили к нему в журнал «Юность». К примеру, Юрию Казакову, он советовал «брать» у известных писателей приемчики и развивать их у себя. Дескать, ребята, не стесняйтесь! Как говорил Вольтер: «Книги делаются из книг». Но это уже другая история.